
ЧЕХОВ НА ПАРИЖСКОЙ СЦЕНЕ
(1960—1980)
Обзор Кл.
Перевод М. А. Зониной
писателей, произведения которых шли на французской сцене1. Безошибочное потверждение чеховского статуса классика — две последовавшие одна за другой постановки в "Комеди Франсез" ("Три сестры" в 1979 г. и "Чайка" в 1980 г.) и в "Теарте де ля Билль" ("Чайка" в 1975 г. и "Три сестры" в 1979 г.), три публичных спектакля, сыгранных высшими театральными училищами страны в 1977—1980 гг. ("Дядя Ваня" и "Чайка" в Государственной Консерватории драматического искусства, "Лебединая песня" в Театральной Школе на улице Бланш). Нельзя не упомянуть и о росте числа переводов и публикаций его пьес — от изысканных томиков для любителей, изданных "Кружком Библиофила" и в Библиотеке Плеяды, до дешевых многотиражных выпусков "Карманной библиотечки". После первых сенсационных постановок Жоржа Питоева в период между двумя мировыми войнами пройден огромный путь. И столь далеким от нынешнего состояния чеховского театра кажется то, что в 1960 г. писала Софи Лаффит: "В год пятидесятилетия со дня смерти писателя слава его во Франции достигла своего апогея" (ЛН. — сегодня.
Постановки Чехова многообразны. В первую очередь это, разумеется его большие пьесы, в том числе и юношеская "Безотцовщина"; но также и одноактные пьесы, и инсценировки рассказов. Его ставят повсюду — в Париже и в провинции, в театрах, получающих государственные субсидии и на подмостках молодых передвижных групп, под руководством опытных режиссеров — традиционалистов и новаторов — и по инициативе двух-трех никому не известных актеров в каком-нибудь кафе-театре. Телевидение тоже не оставляет его без внимания. Одним словом, Чехов прочно вошел в театральную жизнь Франции.
— вплоть до 74-го, во второй половине 70-х годов число их сократилось. Они свидетельствовали как об интересе ко всему творчеству Чехова, так и о тщетной попытке обойти трудности постановки его главных пьес. В рассказах Чехова — та же правдивость изображения человека и тягот жизни, что и в его пьесах, но случаи берутся более частные и на вид — более простые. Решающую роль тут играет мастерство актера.
Чаще всего на афишах появлялась "Дама с собачкой", особенно запомнилась зрителям инсценировка 1964 г. в "Театре Терт". В 1967 г. Андре Барсак в своем театре "Ателье" поставил "Дуэль". В интервью газете "Фигаро" А. Барсак говорил: "Эта вещь с ее социальным звучанием сохраняет злободневность и в наши дни. Так, например, персонаж, которого играет Ален Мотте, явно предвосхищает нацистов. Это жизнь общества, в котором ощущаются тревоги современного мира" ("Figaro", 7 I 1964). На экране телевидения, располагающего большими, чем театр, средствами для инсценировки рассказов, имели успех "Попрыгунья" (1967), "Жена" (1971) и др.
В 1969 г. Андре Барсак ставит в "Театре Эберто" "Насмешливое мое счастье, или Чехов о себе". Барсак и Жорж Сориа внесли некоторые изменения в пьесу Леонида Малюгина, впервые сыгранную в 1954 г. труппой московского театра им. Вахтангова: эпизоды с Горьким были выброшены, действие сконцентрировано на "флирте" с Ликой и "страсти" к Ольге Леонардовне. "О чувствах писателя рассказывается без малейшей слащавости, и зрителю ясно видна личность Чехова, — писал Клод Оливье, — я не сомневаюсь, что этот спектакль помогает понять внутреннюю жизнь писателя. Но все остальное, напротив, тонет в сомнительном тумане даже для тех, кто хорошо знаком с биографией Чехова..." (Les Lettres Française. 26 III 1969).

"ЧАЙКА"
Театр "Комеди франсез", 1980
Одноактные пьесы Чехова обыкновенно давали перед основной многоактной пьесой, в сочетании с короткими пьесами других авторов, или соединяли несколько пьес в "чеховский вечер". С 1960 по 1975 г. одноактные пьесы в Париже ставились (вместе и по отдельности) шесть раз, с 1976 по 1980 г. — двенадцать. Региональные Драматические Центры также организовывали турне по провинции с водевилями и шутками Чехова.
Одним из лучших воплощений Чехова в Париже был "Медведь", поставленный Жаном Десаи в "Одеоне" (1963). Успех спектакля обеспечили два замечательных исполнителя — Даниель Ивернель (имевший уже опыт участия в чеховском спектакле: два года назад он сыграл роль Войницкого в Комеди Франсез) и Сюзи Делэр, опереточная и эстрадная певица, известная своей пикантностью, умением позабавить и зажечь публику. "Она всхлипывает — зал фыркает. Он в гневе. Зал хохочет. Она сердится. Зал упивается. Он бушует. Зал в экстазе. Она сжимает кулаки, топает ногами, кричит, угрожает. Он краснеет. Теряется, смущается, начинает запинаться. Хватает ее за руку. Становится на колени. Она неумолима.
артачатся, бунтуют, смиряются, мирятся, и наконец — заключают друг друга в объятия" — так описывал впечатление от спектакля Поль Морель (Libération. 8 III 1963).
Почти десять лет спустя, Роже Коджио, сыгравший некоторое время назад незабываемого Поприщина в театре Матюрена (1962), ставит "О вреде табака" в один вечер с "Цветком во рту" Пиранделло. Актер "заставляет нас разделить тоску этих почти обреченных чувств с таким мастерством выражения, которое само немыслимо без сочувствия", отмечал Жорж Лерминье (Le Parisien Libéré. 9 II 1972).
***
За последние двадцать лет французские зрители увидели двадцать семь новых постановок чеховских пьес. Следует отметить также возобновление "Вишневого сада" Ж. -Л. Барро в 1960—1961 гг. и в 1963 г. (на телевидении — в 1966). Некоторые другие спектакли тоже возобновлялись один или несколько раз, часть пьес была поставлена на телевидении (шесть программ) и, наконец, их играли на гастолях Иностранных трупп, что существенно повлияло на видение чеховской драматургии французскими театральными деятелями.
На первом плане в 1960-е годы были постановки Саши Питоева, опирающегося на подготовительные заметки своего отца, Жоржа Питоева2
"Чайки" в 1961 г. Для Саши Питоева "Чайка" — пьеса о художественном творчестве, причем взгляд Чехова толкуется как прямо противоположный точке зрения Пиранделло, который считал, что человек, скованный повседневной жизнью и обреченный ею на гибель, в искусстве свободен и бессмертен. Но, пишет Саша Питоев в программе спектакля, — "искусство — крест, налагаемый богом, миссия, которой он облекает немногих избранных"; герои Чехова "несут в себе зерно веры, огня, таланта, смирения", это "братья и сестры героев Достоевского". Питоев извлекает из заметок отца самое существенное, но сообразуется с переменами, происшедшими за это время в театральном искусстве. Он возвращает на сцену знаметитые голубые занавеси из постановки 1939 г. "С первой минуты <...> паузы, размеренный, несколько замедленный ритм усадебной жизни, воздействуют на нас подобно гипнотической музыке, и ни на мгновение мы не выходим из-под ее чар", — отмечает Марсель Капрон (Combat 21 IV 1961). Несмотря на не вполне удачное исполнение ролей Аркадиной — слишком актерствующей, и Сорина — слишком дряхлого, в целом игра актеров была безупречна. Дельфину Сейриг (вернувшуюся тогда из театра "Эктор-Студио" в США) признали идеальной исполнительницей роли Нины Заречной, не уступающей Людмиле Питоевой в постановке 1939 г. У нее и Антуана Бурсейе (Треплев) критика отмечала продуманно-механистическую, на грани фальши, манеру произнесения текста. Так, по мнению Бертрана Пуаро-Дельпем, — "эта манера точно передает "всю отвлеченность, стыдливость, галлюцинаторность этих пылких и в то же время безнадежных признаний двух детей, слишком чистых для жизни" (Le Mond. 22 IV 1961). Сам Саша Питоев играл Тригорина: "знаменитый, пресыщенный, чуть грустный, скептик и мечтатель одновременно. Внимательный ко всему. Внимательный и отрешенный. Слабый, но отнюдь не трусливый. И нисколько не похожий на соблазнителя. (Из интервью с Сашей Питоевым. Humanité, 17 IV 1961). Один из критиков (Клод Саррот) считает, что Питоев вносит в образ "писателя Тригорина равнодушную мягкость, горькую трезвость, томное обаяние и непосредственность, для которой этот замечательный актер непрерывно находит новые краски" (France-Observateur. 27 IV 1961), другой же (Пьер Маркабрю) утверждает, что Тригорин "взвешивает и измеряет свои поступки с ленивой проницательностью, в которой больше усталости, чем отвращения. Он позволяет себе плыть по течению, но ни на минуту не обманывается и не строит иллюзий, понимая все убожество пустого существования" (Arts. 3 V 1961). Спектакль воспринимался как слаженная, выстроенная симфония, его сыграли 40 раз в Париже и на гастролях — он имел огромный успех.
В 1962 г. Саша Питоев ставит "Иванова". Он ничего не нашел в заметках отца, и поэтому предлагает зрителю собственный, достаточно убедительный анализ пьесы. "Я остановил свой выбор на "Иванове", — говорит он в интервью, — потому что проблемы, которые ставит пьеса, очень современны: сорокалетний, преуспевший человек начинает вдруг сомневаться в себе и в людях... Его охватывает тоска, он задает себе вечный вопрос — быть или не быть. Так же как Гамлет не был каким-то исключительным человеком, а лишь отражением тревоги человеческой, так и Иванов (для России Иванов — то же, что для Франции — Дюран) вбирает в себя типические черты своего поколения и класса в России конца XIX в. Но его внутреннее беспокойство не относится к определенной эпохе — оно характерно для любого времени, и для нашего — в особенности» (Le Parisien Libère. 14 IX 1962). Театральный обозреватель "Combat" (10 IX 1962 — без подписи) также проводит сравнение с Гамлетом, но с Гамлетом, у которого "после того, как он на протяжении двадцати лет пытался реформировать датское королевство, окончательно опустились бы руки от отчаяния". Этот же критик замечает: «в "Иванове" Чехов уделяет важное место юмору, и каждое драматическое событие уравновешивается ситуацией комизма, который напоминает по своему остроумию его одноактные пьесы». В той же газете некоторое время спустя, Жан Паже писал: «Для меня "Иванов" — почти Пиранделло, почти Сицилия, почти "Посторонний" Камю». (Combat. 23 IX 1962). Питоев расширил сценическую площадку за счет просцениума — здесь, прямо перед зрителями, Иванов кончает жизнь самоубийством. Декорации очень простые. Сатирическую направленность пьесы постановщик передает через портреты гостей Лебедева: "Он сообщает подчеркнутую типичность марионеткам, томящимся в барочной гостиной... это старые пьяницы в смокингах, рассуждающие об улетучившейся бодрости, молодые щеголи, угрюмые и равнодушные, важные матроны, из которых прут властность и предрассудки" — пишет Клод Беньер (Figaro. 21 IX 1962). Бертран Пуаро-Дельпеш (Le Mond. 21 IX 1962) находит их "достойными Лабиша и предвосхищающими Ионеско". Для роли Иванова Питоев отпустил бороду и усы, он резко отличается от общества, в котором живет. "С самого начала, — считает Клод Оливье, — он создает образ человека, выведенного из равновесия и на протяжении всей пьесы умножает симптомы снедающего его недуга" (Les Lettres françaises. 27 IX 1962). Правда, тик, тембр голоса и дикция, которыми Питоев наделяет своего героя, вызвали возражение ряда критиков.
В 1964 г., к 25-летию со дня смерти отца, Саша Питоев возобновляет "Дядю Ваню", где сам замечательно играет Астрова. Очень высокий, худой, слегка сутулый брюнет с аскетическим лицом, Саша Питоев в этой роли вызвал симпатии публики. Бертран Пуаро-Дельпеш так выразил это впечатление: "Старомодность облика, смутная улыбка, неопределенность жестов, глухой голос, расплывчатость юмора, отсутствующий вид, — все делает питоевского Астрова на редкость правдоподобным и поэтичным" (Le Mond. 13 XII 1964).
— "Вишневый сад" (1969). В первом акте — обои в цветочек, муслиновые занавески на окнах, открытых в цветущий вишневый сад. Господствует ощущение комфорта и уюта. Во втором акте, где действие происходит под открытым небом, декорации скупы — только скамейки на фоне задника. Среди исполнителей выделяется Питоев — Трофимов. Хотя, может быть, он слишком стар для этой роли (ему к началу постановки было сорок пять лет), — это типичный русский интеллигент начала века — аскетическое лицо, очки в металлической оправе, русская рубаха, студенческая фуражка... "Ему не хватает человечности", — пишет Жан Паже (Combat. 2 X 1965), другие критики видят в нем будущего красного комиссара. Лопахин (Пьер Табар) — нахальный и неистовый, с легким налетом тревоги, делающей его интересным, воспринимался некоторыми критиками как бальзаковский персонаж, этакий русский Тюрлюр1*, лишенный будущего (A. P. Le Croix. 8 X 1965). Единодушны оценки Сюзанны Флон в роли Раневской. "Чудо Чехова сливается с чудом Сюзанны Флон", — восклицает Бертран Пуаро-Дельпеш, обычно весьма сдержанный (Le Mond. 2 X 1965). В тот же день пишет Жан Паже: "Сюзанна Флон — воплощенная чувствительность... Ее голос срывается от страданий и обретает силу от надежды, пусть самой безумной. Восхитительная способность жить в своем мире с такой полнотой! Этот мир рушится, Флон предчувствует его гибель. Ее взгляд цепляется за что-то, словно пойманная в силки птица, трепещет и умирает. Взлетает лишь несколько перышек — беззаботности" (Combat. 2 X 1965). Публика и критики (Андре Рансан) увидели общество, "гибнущее не столько от эгоизма, сколько от бездумности" и "поэтический реализм, подобный шекспировскому" (L'Aurore. 2 X 1965).

"ЧАЙКА"
Театр "Комеди франсез", 1980
— Л. Микаэль, Треплев — Ф. Хюстер, Сорин —
Д. Розан, Тригорин — М. Омон
Впоследствии Питоев возобновлял свои спектакли, но после 1969 г. больше к Чехову не обращался.
"Дядя Ваня", поставленный в 1961 г., ознаменовал подлинный приход Чехова в "Комеди Франсез" — до того на этой сцене ставились лишь несколько одноактных пьес перед основной пьесой. Как отмечали газеты, Чехов до тех пор считался представителем "авангарда", и это закрывало его пьесам путь на официальную сцену. Но приезд Московского Художественного театра в 1958 г. изменил эту точку зрения.

"ЧАЙКА"
Театр "Комеди франсез", 1980
В качестве постановщика был приглашен Жак Моклер, который блестяще поставил еще в 1950-е годы "Иванова" и познакомил парижскую публику с Ионеско. Заглавную роль исполнял Даниель Ивернель, впервые выступивший на сцене "Комеди Франсез" (где он пробыл недолго).
Художнику-декоратору Рене Аллио удалось создать реалистическую обстановку тусклой обыденности (что резко отличалось от его обычной манеры в театре Планшона, где он сотрудничал много лет). Для сцен в саду он соорудил угол помещичьего дома с верандой, березы, плетеную мебель. Интерьерные сцены проходили в гостиной, со стульями в чехлах, столами, покрытыми ковровыми скатертями, висячими абажурами 900-х годов и бюро, заваленным книгами и папками. «Постановка Жака Моклера в "Комеди Франсез" больше всего напомнила мне, — пишет Ги Дюмюр, — советские спектакли, повторяющие Станиславского. Та же пышность декораций и костюмов, тот же реализм шумовых эффектов" (Cazette de Losanne. 4 III 1961). Актеры, воспитанные на ином репертуаре и иной манере игры, оказались не подготовленными к пониманию и воплощению Чехова: некоторые стремились к эффектным "выходам" и подчас вызывали аплодисменты публики в самых неподходящих местах. Искренен был один Ивернель — даже когда он удивлял необычностью толкования своей роли. В Войницком, — считает Клод Саррот, — он "увидел неразборчивое великодушие, проницательную наивность и сумел передать в созданном им персонаже какую-то его простоту и нерасторопность — в том смысле этого слова, в котором говорят о медлительных детях" (France-Observateur. 9 III 1961). "... Ворчливый, желчный, резкий, вспыльчивый и бесконечно добрый, это непроправимо постаревший ребенок, неспособный преодолеть растерянность, в которую он приведен существованием, изначально обрекающим его на ничтожность и серую повседневность" (Клод Оливье) — Les Lettres françaises. 2 III 1961).
"Дядю Ваню" в "Театре Тертр", возвращаясь тем самым к недавней традиции. Дядя Ваня в спектакле Селье замкнут, желчен, "начисто лишен нежности и доброты" (Жан Паже — Combat. 7 IV 1961), но зато актер выражает "горечь и возмущение, присущие его персонажу" (Жак Лемаршан — La Figaro Littéraire. 15 IV 1961. Соня показалась тусклой, в отличие от Астрова — "циника, ироничного даже в моменты наибольшей искренности, непринужденного и естественного в любых обстоятельствах" (так же.). Пожалуй, больше всего этому спектаклю недоставало мягкости и юмора.
Самой оригинальной особенностью "Трех сестер" в "Театре Эберто" в 1966 г. (постановка Андре Барсака) было то, что в трех главных ролях выступали сестры Поляковы3. Критика сурово отнеслась к их игре — слишком неровной — и к самой постаноке.
"Безотцовщина" (1969) во "Вье Коломбе" была поставлена Бернаром Женни. Заняв в спектакле актеров русского происхождения, постановщик стремился гарантировать верность тона и создать нужную атмосферу. Пресса встретила его замысел в основном благосклонно. Вместе с актером Мишелем Витольдом (Платонов), на которого особенно опирался режиссер, он "попытался воссоздать глубокий юмор этой пьесы — юмор, характерный для моментов страшных жизненных катастроф, когда смех — единственная возможность забыться" (Интервью Ж. Ж. Оливье с Бернаром Женни) — Combat. 24 IV 1969. Мишель Витольд сыграл своего рода Перришона2*"пропущенного через Гоголя под углом зрения Достоевского" (Матье Гале) — Combat. 30 IV 1969. Он сообщил Платонову "мрачность и усталость — традиционные черты мужчины, имеющего успех у дам; "русификация" придает этому типу в наших глазах некое дополнительное измерение" (Жак Лемаршан) — Le Figaro Littéraire. 12 VI 1969. Благодаря игре Наталии Нерваль (Анна Петровна) сцена ее опьянения в третьем акте исполнена "безграничного отчаяния, которое объясняет, хотя и не извиняет, всеобщее падение" (Жан Винерон) — Le Croix. 6 V 1969. Что касается Клода Броссе (Осипа), то отзывы о его игре слились в единый восторженный хор: "... он создает фигуру крупную, сочную, со скрытой горечью и жалостью к людям" (там же). Осип — "душевный мужик", его образ "недвумысленно дает понять, что спасение — в народе" (Кристиан Мегре) — Carrefour. 7 V 1969.
"Ателье" он ставит "Иванова", где сам исполняет главную роль. Это трудная задача, и, как мне представляется, Витольд, сосредоточив свои силы на постановке, обеднил собственную роль. Сюжет пьесы — согласно Витольду — "путь человека к своему концу, человека, который идет к нему медленно и неотвратимо" (Из интервью Э. Реда с Мишелем Витольдом) — Combat. 3 IX 1970. Он настоял на карикатурной трактовке персонажей, окружающих Иванова, изображая их "героями водевиля <...> В зале смялись, никто не ощутил отчаяния, обычно исходящего от этой драматургии, стремящейся отразить жизнь" (Ролан Мишель) — L'Humanité-Dimanche. 20 IX 1970. Напротив, Иванов в спектакле дан в подчеркнуто мрачных тонах — "судорожная игра, доведенная до пароксизма чувствительность, то всхлипы, то стоны, в некоторых репликах — твердость и молодость, и снова — однообразная монотонность, раздражающая механичность, подергивание. Когда мы видим Витольда сразу после поднятия занавеса, кажется, он уже сыграл всю пьесу — он обнажает свою усталость, ужасающую скуку, которую наводят на него окружающие, да и он сам, полную невозможность существования" (Mercure de France. T. 77. № 28. 1 XI 1970).
В 1974 г. ставятся последние чеховские спектакли, решенные в традиционной манере. После "Трех сестер", показанных на телевидении, газеты писали: "Мы ощущаем течение времени, постепенное угасание надежд и желаний, приятие жизни, которую мы бы для себя никогда не приняли. И все разрозненные темы пьесы сливаются в тихую музыку ностальгии, которая может завершиться только тишиной" (Робер Кантер) — L'Expresse. 25 III 1974 (Курсив мой. — К. А. -Ш.— симфоническая композиция, паузы, контрапункты, ассоциации со звучанием струнных инструментов — возникали так часто, что "тихая чеховская музыка" превратилась в штамп.

"ГОЛОСА ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА"
10
Обложка журнала
о спектакле "Чайка" в театре "Комеди франсез"
***
С начала 70-х годов в театральной жизни Франции произошли серьезные изменения. Гастроли пражского "Театра За Брану" в 1968, 1969 и 1970 гг. потрясли публику.
— их было большинство — восторгались. Как бы то ни было, это заставило режиссеров отнестись по-иному к чеховской драматургии, начать поиск новых средств ее сценического воплощения.
"Театре дез Амандье". Переселенный в 1965 г. в рабочее предместье Парижа "Театр дез Амандье" ставил на своей сцене и классические, и современные пьесы. Постановка "Вишневого сада" в этом театре "осовременила" пьесу4. Декорации были предельно просты: холщовый задник с легким и как бы отдаленным рисунком деревьев и домов, портьеры, балюстрада и самая необходимая мебель. Кремово-серый задник окрашивался в теплые тона или играл тонами в зависимости от освещения, создавая атмосферу вне конкретного времени и места. «Спектакль Дебоша погружает Чехова в кошмарный бред, в анахронический "театр жестокости"» (Жорж Лерминье) — Parisienne Libéré. 21 X 1971). Театр жестокости — возможно, это преувеличение, но факт остается фактом: Дебош действительно стремился высмеять это гибнущее общество, которое цепляется за свое прошлое. "Сделано все, чтобы показать мирок Раневской не столько трогательным, сколько достойным осмеяния <...> Режиссер всеми средствами превращает героев в паяцев, а последние часы владельцев — в маскарад" (Бертран Пуаро-Дельпеш) — Le Monde. 17 X 1971). "Все кричат, суетятся и встают в позы — ни складу, ни ладу... Кажется, что ты попал в венскую оперетту, а местами — на сюрреалистическую пантомиму" (Пьер Маркабрю) — France-Soir. 17 X 1971. Другой критик идет еще дальше: «Все доведено до шаржа, до буффонады. Это уже не комедия, а фарс, водевиль, почти гиньоль. Это уже не Чехов, а Лабиш, или Гольдони... "Вишневый сад" продали — но, увы! — разрушителям» (Андре Рансан) — L'Aurore. 18 X 1971. Несколько обозревателей, оценивая режиссерские ухищрения Дебоша, несправедливо обвиняют его в зависти к молодым режиссерам-новаторам. И вот уже Чехов — предлог для спора разных школ.
Некоторые критики впрочем писали о спектакле достаточно объективно и серьезно. «Даже если этот спектакль и нелеп, он интересен тем, что по-новому освещает персонажей и атмосферу этой читанной перечитанной пьесы. Мне кажется, что настойчиво "искажая" поведение персонажей, режиссер стремился показать искусственность каждого из них <...> Это "горькая, полная отчаяния сатира, вовсе не имеющая целью вызвать смех", все элементы в спектакле "направлены на создание удивительного ощущения, будто живешь вместе с этим домом в каком-то ирреальном кошмаре наяву, где все мечутся и теряются в нелепой и хаотической суете. Результат — нередко захватывающий, а иногда и очень поэтичный» (Матье Гале) — Nouvelles Littéraires. 22 X 1971.
Пройдет целых четыре года, прежде чем будет сделана новая попытка переосмыслить Чехова. Это была инициатива "Театра де ла Вилль", пригласившего для постановки "Чайки" румынского режиссера Лючиана Пинтилие, который с самого начала откровенно заявил о своей борьбе против традиционной трактовки Чехова: "Я надеюсь, что моя постановка будет способствовать уничтожению слишком устоявшегося, в частности, во Франции, образа элегантного и сентиментального Чехова" (Л. Пинтилие. О постановке "Чайки". Дневник "Театра де ла Вилль". № 25. 1974 г.). «Мы стремимся к созданию "нутряного" спектакля, вибрирующего и чувственного <...> Чтобы дать ключ к пьесе, мы начинаем спектакль со сцены Нины и Треплева из IV акта. На протяжении всей сцены идет равнодушная игра в лото — своеобразный фрагмент тусклой повседневности, и на этом фоне наши герои восстанавливают свое прошлое — т. е. всю пьесу» ("Лючиан Пинтилие ставит "Чайку" Чехова". Из беседы с Мари Армель Диссур. — Дневник "Театра де ла Виль", № 27, февраль 1975 г.). Сцена, открывающая спектакль, играется в отчаянной, неистовой, почти истерической манере. В конце спектакля она повторяется снова, уже на законном месте, в тональности четвертого акта. Несколько раз проигрывается и представление пьесы Треплева, оказавшей такое влияние на его судьбу и судьбу Нины: первый раз — сразу после сцены их последнего свидания в начале действия — словно воспоминание об утраченном счастье. Нина стоит спиной к залу; потом — на своем месте в первом акте, уже лицом к зрителям на сцене и к публике в зале; наконец — перед самым самоубийством в четвертом акте, подобно кошмарному видению на секунду возникает Нина, грубо загримированная, словно марионетка или карикатура на театр, — и тут же исчезает в облачке дыма: в этом — время, которое ушло, поднятое из глубин воспоминание, одержимость Треплева своей пьесой и ее провалом. В центре огромной сцены "Театра де ла Вилль" — бревенчатый каркас треплевского театра — он находится там на протяжении всего действия, как узел драмы. В какой-то момент его закрывают занавесом с нарисованным скелетом дерева — на сцене поселяется смерть. На этих подмостках разыгрываются сцены, подчеркивающие театральность происходящего: сцена Аркадиной и Тригорина (III акт), чтение Мопассана (II акт) и спор с Шамраевым. Тригорин поднимается на них, чтобы произнести монолог о творчестве. Вокруг этой эстрады — аккуратно подстриженные кустики, окаймляющие аллеи, которые открывают или замыкают пространство сцены, где стоит пианино, ширмы и, в центре, — стол со стульями. Действующие лица возникают на сцене и в подтверждение своего "эмоционального" присутствия для тех или иных персонажей: так, Аркадина стоит рядом, пока Костя говорит о ней с нежностью, и уходит, как только он начинает её критиковать; "точно так же Треплев появляется во II акте при сцене Тригорина и Нины с убитой чайкой как вторая плоскость проекции авторского "я" в самую ткань литературного творчества, как детонатор символической гибели Нины. Реальное, даже повседневное переплетается с тем, что существует в памяти и чувстве: Полина вяжет во время представления треплевской пьесы, Аркадина после сцены с Тригориным пересчитывает чемоданы, — комизм выявляется в самой прозе жизни.
— «возбуждающая жалость, несчастная птичка, выбитая из колеи, маленький альбатрос, "смешной и неуклюжий" — подобно бодлеровскому» (Жиль Сандье) — Quinzaine littéraire. 16 III 1975. Пресса и зрители с удивлением и, как правило, с удовлетворением открывают для себя незнакомого им ранее Чехова. Чаще всего говорят о Чехове, "наконец, освобожденном от питоевского "lamento" <...> Сентиментальная драма, на манер Порто-Ришевской, которая всегда была в подтексте, теперь уступает место открытой хлесткой и жестокой схватке характеров» (Матье Гале — Le Quotidien de Paris. 24 II 1975. «Его постановка, нежная и мощная, выдвигает на первый план Нину, бросая на нее беспощадный свет, обнажая и словно обдирая все наносное неприкрытой жестокостью взглядов <...> Постановка Лючиана Пинтилие подводит черту под питоевской традицией. Пришел конец "камерной музыке", томной меланхоличности, остается драма, одновременно безжалостная и забавная, которая наверняка больше соответствует замыслу автора» (Поль Шамбрийон) — Valeurs Actuelles. 10 III 1975. Некоторые критики усмотрели в спектакле подчеркнутую социальную значимость: "спектакль исторически закреплен во времени, но отнюдь не русифицирован и свободен от всякой формальности и экзотики. Нам показано общество не столько уже буржуазное, сколько мистификация, манок для чаек, псевдорелигия на манер Мальро. Здесь все жертвы <...> Как ни парадоксально, но взгляд Пинтилие, резко разделяющий старых и молодых, менее жесток к Тригорину и Аркадиной — людям заурядным, но относящимся к себе трезво и способным творить, — чем к Нине и Треплеву, запутавшимся в мистифицирующих грезах, которые разрушают их физически и морально...» (Анна Юберсфельд) — France Nouvelles. 10 III 19755.
В Париже на гастролях "Вишневый сад" Джорджо Стрелера. И снова это потрясение6.
В следующий сезон весь Париж устремляется на "Дядю Ваню" в Национальном театре "Одеон". Исходя из того, что в пьесах Чехова "всегда присутствует слияние и переплетение сложностей отношения человека с другими и с самим собой, и что эти пьесы затрагивают общество в целом и каждого индивида в отдельности,
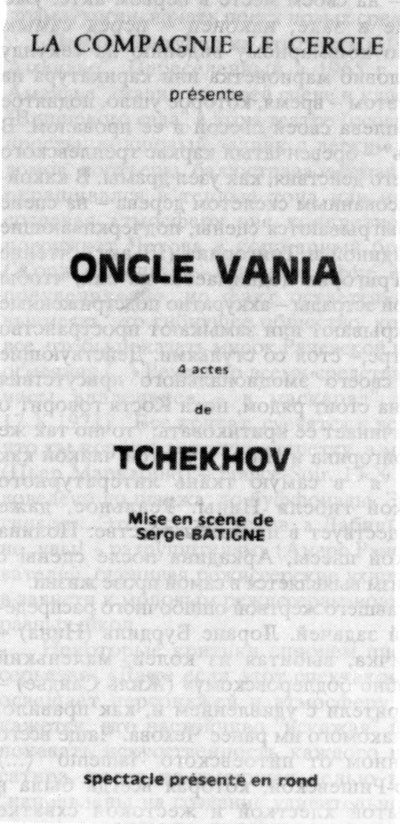
необходимо было "дерусифицировать" Чехова, придать спектаклю универсальность и приблизить его к нашей жизни, отбросив "местный колорит" и "живописность" (из программы спектакля; слова принадлежат постановщику спектакля Жан-Пьеру Микелю). "Чтобы разрушить формальные барьеры, я счел необходимым приблизить пьесу к нам, — утверждал Жан-Пьер Микель. — Ее действие может с равным успехом относиться к 1930, 1890 или 1900 годам" (Из интервью Мишеля Гре с Жан-Пьером Микелем) — (L'Aurore. 25 II 1977). Костюмы и декорации, таким образом, не имеют никакого отношения к реалиям России конца века. Задник из небеленого холста, по которому плывут облака, декорации в форме буквы Т — в глубине и в середине сцены, если смотреть из зала, — делят пространство на две зоны, в которых совершается действие. Один тополь — в глубине, другой — ближе, слева; несколько стульев и столов, пианино, покрытое плетеным ковриком. Костюмы, выдержанные в коричневых тонах — от светлого до темного, не привязаны к определенной эпохе, лишь незначительные детали указывают на конец прошлого века. "Персонажи находятся на сцене перед огромным пустым пространством и почти не двигаются, — это удачная находка режиссера. Они здесь предоставлены сами себе и откровенны. Они размышляют вполголоса. Это час истины! (Мишель Курно) — (Mond. 5 III 1977). "Актеры играют на авансцене. За ними бесконечное пространство, как бы продолжающее текст. Такая преднамеренность лишает пьесу некоторых обертонов... Действительно, Чехов разыгрывается в двойном регистре — карикатурного комизма и глубокой ностальгии. И критика общества, делающего все для собственной гибели, лишенного каких бы то ни было идеалов, пронизывает весь спектакль (Жорж Лерминье) — (Parisien Libéré. 10 III 1977). Игра Франсуазы Бет (Соня) получила только положительные отклики, независимо от того, принимали или отвергали критики режиссерское решение, — "нежное лицо, гладко зачесанные волосы, сдержанные движения, она ненавязчива, тверда, чувствительна и словно освещена внутренним светом". Она "идеально соответствует молодой Соне — набожной страдалице, влюбленной, отчаявшейся, мужественной, верующей, жертве, упрямице — камешку добродетели в этом огромном красивом и печальном потоке" (Матье Гале) — Quotidien de Paris. 5/6 III 1977. Этот же критик так описывает остальных исполнителей: "Юбер Жиньи забавляется, играя профессора-подагрика, гнусного фатоватого старика, который пытается произвести впечатление своей вкрадчивостью и красноречием <...> Что же касается Микеля... он играет типичного деревенского доктора, эколога (уже!) и вегетарианца. Довольно элегантный для этой "сельской" роли, он скорее соблазнитель, чем пьяница и "лесовик" (так же). Анри Верложё (дядя Ваня) с желчным лицом и пышными усами, великолепно воссоздает образ ворчливого мизантропа. Несколько критиков, вспоминая с ностальгией "чеховскую музыку", оплакивают отстутствие человечности и теплоты в игре актеров. «Исполнители не играют (или почти не играют) "Дядю Ваню", а читают пьесу — ясно и четко, однако холодно, и изредка, словно по недосмотру, прорывается чувство <...> Ум — вещь прекрасная, но Чехов требует еще и любви — к себе и к своим героям. Здесь я ее не ощутил" (Анри Рабин) — La Croix. 19 III 1977.
"Театр-Кроник" ставит "Иванова", делая упор на социальном аспекте пьесы. Руководительница-инсценировщица-режиссер Бетти Рафаэлли действует напрямик. "Единственное зрелище, к которому призывает нас Чехов, — это срывание масок с определенной среды — мелкой и средней русской буржуазии второй половины XIX в. после провала и последовавшего за ним разочарования в реформистских порывах и народничестве. Иванов, конечно, невротик, но повинно в этом умирающее общество, в котором он живет. Его больная совесть — исторического происхождения. Иванов — слабовольный человек левых взглядов, ставший жертвой собственных противоречий" (Из беседы Бетти Рафаэлли с Ж. П. Леонардини) — L'Humanité. 14 I 1977. Декорация состоит из ряда занавесей, занимающих всю глубину сцены — они то освещаются, то погружаются в полумрак — их прозрачность позволяет всем персонажам находиться на сцене одновременно: жертвам и ловкачам, безразличным и активным, то актерам, то наблюдателям, но всегда присутствующим во всей своей материальности, перед нами — конец этого мира, "медленный и неотвратимый развал, который никак не может кончиться <...> Все они с наслаждением барахтаются в этой двусмысленной патоке — вневременной и безграничной, которая доносит до нас неотвязный запах разложения" (Патрик де Робсо) — Quotidein de Paris. 25 I 1977. "Театр-Кроник" неоднократно играл "Иванова" на гастрольных спектаклях в пригородах Парижа и в провинции.
"Театр де ля Коммюн" в Обервилье — рабочем предместье Парижа — включил в свой репертуар "Платонова". Пьеса, поставленная Габриэлем Гарраном по переводу Эльзы Триоле, вылилась в более чем трехчасовой спектакль. «В этой пьесе, — говорит режиссер, — он (Чехов) открывается больше, чем где-либо. "Платонов" — отправная точка его мучительных отношений с театром. К тому же, именно в двадцать лет человек предельно естественен, слишком молод и не овладел еще мастерством. И поэтому ничего себе не навязывает, ничего в себе не цензурирует. В этой пьесе содержится ряд мотивировок и буквально выкриков, выражающих личные устремления автора» (Из беседы Мишелин Сервен с Габриэлем Гарраном) — Atac-Informations. XII 1978. Гарран делает Платонова центральным персонажем и сочетает в нем "юмор, поэзию, буйство, трагичность и предельную чувственность" (Жиль Сандье) — Le Matin de Paris. 19 II 1978. Оформление крайне простое — незамысловатые березки, декорации, мало уточняющие место действия, серые и кремовые костюмы, у женщин — кружевные, у мужчин — из легкой материи, освещение придает им золотистый оттенок. Режиссерская трактовка пьесы получила разные отзывы. Но зато Платонов — Нильс Ареструп — был поистине открытием: "в его легкости постаревшего младенца <...> есть какая-то необъяснимая свежесть, уходит он смертельно раненный в поисках скорее матери, чем жены, матери, способной утешить его, помочь пережить великое горе — горе существования, как такового" (Пьер Маркабрю — Le Figaro. 16 II 1979. С некоторыми оговорками Ги Дюмюр считает, что Платонов-Ареструп "с длинными растрепанными волосами похож на современных интеллигентов, немножко маменькиных сынков, которые прячут свою манию величия за намеренно дебильной внешностью" (Le Nouvel Observateur. 26 II 1979). Актер действительно стремится раскрыть личность нашего современника. В игре "этого Достоевского Гамлета — вся колдовская гамма современности: Платонов — своего рода ядовитый, надломленный, судорожный ангел, который вполне бы вписался в мир Пазолини" (Жиль Сандье. Там же).
Весной 1979 г. Париж ждал трех постановок "Трех сестер", но дождался лишь двух — Питер Брук отложил свой спектакль. Поэтому состязались только "Комеди Франсез" и "Театр де ля Вилль". Отмечу здесь, что на сцене "Комеди Франсез" в знак уважения к русскому артисту портрет генерала Прозорова, висевший на почетном месте, был не чем иным, как портретом Станиславского в роли Вершинина.

"ТРИ СЕСТРЫ". 1-Е ДЕЙСТВИЕ
Год спустя "Комеди Франсез" возвращается к Чехову и приглашает Отомара Крейчу на постановку "Чайки". Французский перевод соответствует оригиналу 1896 г. (См. также беседу Раймонда Темкина с О. Крейчей) — Revue de la Comédie Française. № 97. III 1981. С. 16. Занавес из красного бархата (в I и II актах) — символ театра — то ограничивает, то открывает полностью сценическое пространство. За ним — стволы берез и маленькая сцена. В III и IV акатах зеленоватая перегородка перерезает занавес, загораживая большую часть его, и приоткрывает только две портьеры красного бархата, где входят и выходят актеры. Зеленый прожектор, в первом и четвертом актах освещающий березы, в момент представления треплевской пьесы перекидывается на красный занавес, окрашивая его в черный цвет, в то время как над Ниной появляется облако дыма с запахом серы. Четвертый акт благодаря эффекту черного занавеса и общего темного освещения — акт смерти — смерти Треплева, близкой смерти Сорина, забытого в углу на своем передвижном кресле, смерти порывов, надежд, возможностей. В первых трех актах белые платья Нины оттеняются песочными и черными костюмами других персонажей. В четвертом акте все — в черном или сером. Эпоха точно не обозначена, но стиль подчеркивает социальную принадлежность героев. Ни один из персонажей на всем протяжении спектакля не выделяется: все равно бессознательны и жестоки друг с другом, несмотря на мимолетные и сильные порывы нежности. Режиссер ни в какой мере не стремится к злободневности, но старается согласовать мир чувств персонажей и зрителей, чтобы мы могли воспринять Чехова непосредственно и узнать в его героях себя. (Денис Бабле. "Узнать себя в Чехове" — из программки спектакля).
"В ней нет никакого местного колорита, никакой так называемой "чеховской музыки", она — женщина, и Крейча настаивает на плотской стороне образа, — женщина, страстно влюбленная в жизнь, сталкивающаяся с другими, ничуть не подслащенными персонажами" (Из Интервью Марион Тебо) — Le Figaro / L'Aurore. 26 III 1980. Аркадина — известная актриса, жаждущая сохранить женские чары, несмотря на близкую старость, она трезво смотрит на вещи и ей приходится держать себя в форме, отсюда в ней появляется "некоторая жесткость, позволяющая ей не раскисать и не терять своей ослепительности. Она не злая. Впрочем, злости нет ни в одном из персонажей — если они и ранят, то только в целях самозащиты" (Из беседы Жеррара Маннони с Катрин Сами) — Le Quotidien de Paris. 18 IV 1980. Что касается Маши, то это — "девушка, поразительно современная в своем неистовстве самоуничтожения <...> Она — из битников <...> Персонаж отнюдь не романтический...» (Из беседы Журара Маннони с Фанни Дельбрис. Там же). В печати, за редким исключением, замысел режиссера совершенно не был понят: "пропавший шарм", "тягостная приземленность", "зловещая птица", — таковы некоторые из язвительных заголовков. А многие критики тосковали по утерянной режиссером "чеховской музыке"! Публика, напротив, проявила единодушие: билетов не хватало даже при возобновлении спектакля в 1981 г. актеров многократно вызывали на аплодисменты. Настроение публики отразилось в некоторых статьях, авторы которых полемизировали с резкой критикой спектакля большинством рецензентов. «У каждого из персонажей пьесы есть момент истины, когда он вынужден себе признаваться, что не дотягивает до собственных замыслов или честолюбивых посяганий. Но всякий раз остальные образуют хор болтливого безразличия и пошлого непонимания трагедии. Вопль утраченных иллюзий звучит на фоне гусиного гоготания. И более того — в ту минуту, когда каждый из них забывает о собственном отчаянии, он присоединяется к равнодушным. В спектакле уже нет персонажей, более или менее симпатичных, все они несут груз своего горя и рвут друг друга на части с одинаковой душераздирающей слепотой. И вот именно эту боль, эту жестокость даже в нежности, эту лишенную и лишающую надежд ложь обнажает постановка Крейчи <...> Режиссер старается только углубить и дать почувствовать авторскую мысль. В наше время это редкость <...> актеры "Комеди Франсез", хоть им и пришлось туго, иногда просто преображаются благодаря этой внутренней правде» (Робер Кантер) — L'Express. 10 V 1980.
Последней чеховской постановкой, имевшей огромный успех, был "Вишневый сад" Питера Брука в "Буфф дю Нор"7 и агатовые украшения Раневский также резко контрастируют с запыленными и поношенными костюмами. Игра вносит эти же противоречия во внутренний мир персонажей и их взаимоотношения. "Гротескность доводится до пароксизма в двусмысленных балаганных эпизодах: фокусы иностранки Шарлотты, игра с бильярдным кием, бесчисленные падения и клоунада слуг, в последний раз исполняющих свою роль, — из всего этого создается переплетение осязаемых, теплых соприкосновений рук, тел, которые тянутся друг к другу, любят и страдают, перекличка голосов — прислушивающихся к себе и принуждающих себя к молчанию" (Беатриса Пикон-Валлен) — La Quinzaine Littéraire. № 347. 1/15 V 1981. В первом акте свернутые ковры служат креслами или диванчиками, словно символизируя соприкосновение с родной землей, во втором — они превращаются в мостик, в третьем — никто даже не присаживается, возникает ощущение моральной и физической усталости, в четвертом — сидят только на чемоданах или в единственном ветхом кресле, где вскоре "забудут" Фирса <...> В первом акте приехавшие входят на сцену через зал — из внешнего мира — в мир замкнутый, где вместе с ними находится публика; в финале, уезжая, они снова проходят через зал, на улицу, в неведомый мир, куда потом выйдут и зрители; в третьем акте танцующие гости, а потом и те, кто возвращается с торгов, входят через боковые проходы партера. Мы вовлечены в игру и разделяем судьбу персонажей, которая в некоторой степени и наша собственная.

"ТРИ СЕСТРЫ". 3-Е ДЕЙСТВИЕ
Комеди франсез, 1979
***
"Широкая публика приняла Чехова, и это явление приятное, хотя и настолько запоздалое, что особого оптимизма не внушает" (Жан Паже) — Combat. 11 XI 1964. Суровое, но справедливое замечание о французской публике — потребовалось целых двадцать лет, чтобы открыть театр Чехова и почти шестьдесят, чтобы сделать из него любимого автора. Еще в 60-е годы русский писатель представлялся подчас далеким по времени и месту. "Чехов наименее устаревший писатель конца XIX в.!" — заявляет Саша Питоев в 1962 г. (Из интервью Мирей Борис с Питоевым) — L'Humanité. 13 IX 1962. Однако успех его бесспорен. В основе этого успеха — трагическое восприятие жизни и музыкальный лиризм Чехова, о котором настойчиво пишут и критики, и постановщики. "Самое странное, я бы даже сказал — поразительное, что чеховская драматургия, мрачная, полная такого всеобъемлющего метафизического отчаяния, граничащего почти с патологией, могла затронуть французскую публику, и публику самую широкую <...> и не только затронуть, но и буквально потрясти. Если я и видел, как плачут в театре, то только на спектаклях Чехова... такое случается лишь на концертах. И все потому, что Чехов обращается к душе, а не к разуму" (Пьер Маркабрю) — Paris-Presse. 26. XII 1966. В драматургии Чехова рецензенты обнаруживают порой современные приемы. «В "Платонове" уже есть нечто от театра абсурда. Синкопированное построение действия с частыми входами и выходами — на сцене кажущееся неловким — напоминает монтаж фильма на заре кинематографа». (Матье Гале) — Combat, 30 IV 1969.
8. Она пишет о театральной деятельности Чехова, о его кредо, изложенном в театральных рецензиях и письмах. Часть книги посвящена чеховским постановкам в Московском Художественном академическом театре. Тем не менее, анализ чеховской драматургии и постановок его пьес продолжался в работах упомянутых выше критиков, как правило, непосредственно связанных со спектаклями. Проникновение в чеховскую драматургию углублялось в процессе самой сценической практики, как это показывают спектакли, о которых здесь говорилось. После 1968 г., когда французское общество пережило политический кризис, мы увидели в персонажах Чехова тревоги и ожидания, близкие к нашим собственным. Франсуаза Дюмайе, экранизировавшая рассказ Чехова "Жена" для телевидения, была поражена "современным звучанием" этого рассказа: "Асорин похож на наших современников, которые хотели бы сохранить мир таким, как он есть, прекрасно чувствуя, что это совершенно невозможно", — говорит она в интервью (Le Figaro. 26 I 1971). Такое восприятие Чехова не было исключением в театральной практике 60-х годов. В это время театр вытаскивает на свет Лабиша, чьи водевили несут в себе веселую, но суровую сатиру на мелкую и среднюю французскую буржуазию конца прошлого века, инсценируется Золя, в репертуарах вновь появляется давно забытый Ибсен. Оживление интереса к Чехову — часть гораздо более широкого процесса пересмотра отношения французского общества к истокам — культуре XIX столетия, и к неопределенному будущему, отражение метаний человека в водовороте мучительных и внушающих страх перемен. "Наша эпоха — эпоха крушения иллюзий, нерешительности и волнений — узнает себя в творениях русского драматурга, где медленно гибнет мир, пришедший к своему концу <...> Этот возврат к Чехову позволяет также осветить несколько по-новому его творчество <...> Сегодня Чехову стараются вернуть комизм и жестокость его реализма" (Жиль Сандье) — Le Matin. 6 II 1981. Доказательством тому служит слово "скальпель", все чаще повторяющееся в критических статьях, в высказываниях актеров и постановщиков. И это не просто дань уважения врачу, а признание силы проникновения в глубину жизни, скрытой за словами чеховского текста. Увлечение Чеховым и открытие "жестокости" его драматургии отражает до некоторой степени и перемены в составе французской театральной публики. И если эта публика так легко узнает себя в персонажах, формулируя с их помощью свои страхи и недоумения перед лицом неведомого мира, который грядет, и страдает, подобно героям Чехова, от мира существующего, раздираемого между прошлым и будущим (то, о чем так точно писал Чехов в известном письме Мейерхольду о роли Ионаннеса Фокерата в пьесе Гауптмана "Одинокие" — см. П. VIII, 275) — то причина этого в том, что публика в подавляющем большинстве принадлежит к подобным же социальным слоям, при всей разнице между особенностями национальной жизни в России начала 1900 г. и во Франции 1980-х годов.

"ТРИ СЕСТРЫ". ФИНАЛ СПЕКТАКЛЯ
Комеди франсез, 1979
Чехова в драматическом ключе и выявил таким образом их комический и одновременно ужасающий смысл. «Театр всегда связан с полемикой, историей, стратегией, обстоятельствами, — утверждает Витез — Вот почему манера ближайшей чеховской постановки — единственно верная и не могущая не быть ниспровергнутой критикой, которая всегда запаздывает на десяток лет, — это делать то, чего хотел Чехов... Играть "Вишневый сад" как водевиль... И не позволять себе соблазниться жестоким Чеховым»9.
Для французов Чехов сегодня не только наблюдатель меняющегося в конце XIX — начале XX в. русского общества, но и поразительно современный художник, выдающийся психолог, чья проницательность и легкий юмор показывают каждому человеку, каков он есть. Вот почему Чехов "заполнил наши театры", как пишет уверенно Жиль Сандье (Le Matin. 6 II 1981). Путь к постижению богатого смысла чеховской драматургии, как мы видели, лежит через многообразие художественных поисков.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 "ATAC-Information" (сентябрь 1972), специальный выпуск — "25 лет децентрализации". Статистика проводится с 1945 г. и касается Драматических центров в предместьях и провинции. Пьесы Чехова ставились 28 раз и заняли восьмое место среди всех авторов. Горький и Гоголь — на 31 месте (их пьесы шли по 9 раз).
2 "Жорж Питоев — режиссер" Жаклин Жомарон посвящает целую главу его чеховским постановкам в Женеве и Париже. См.: Georges Pitoëff, metteur en scéne. Lausanne, 1979. P. 119—135.
3 Сестры Поляковы: Элен Валье — театральная актриса, Одиль Версуа и Марина Влади, известные в основном по работе в кино.
4 "Досье Чехова", в которое входят биографические данные, письма, касающиеся "Вишневого сада", заметки Эльзы Триоле о Чехове и об этой пьесе, а также фотографии актеров, занятых в постановке Московского Художественного театра.
5 Глубокий анализ спектакля см. в работе Жоржа Баню "Прустовская чайка" ("Травай Театраль". № 20. 1975). Он же — автор более общего исследования о "Чайке": «Разрывы в пространстве чеховской "Чайки" (Текст и постановка. Заметки о пространстве и актере)» // Университет Новой Сорбонны. Париж III. Институт театрального искусства. 1978. № 8.
6 "Вишневый сад" еще в 1955 г. В Париж он привез вторую свою постановку этой пьесы (премьера — 1974 г.). См. исследования, интервью и заметки, касающиеся постановки "Вишневого сада" Стрелером и Крейчей — "Травай Театраль". № 26. 1977. Ср.: Стрелер Д. 5. С. 113—120.
7 — заброшенный и вновь возрожденный. Из зала в итальянском стиле, где был пожар, убрали роспись и позолоту. Осталась лишь лепнина балконов, тускло серая, как и весь зал, сцену сняли, и она сливается с залом, так как ее пол находится на том же уровне. Вместо кресел партера стоят скамьи, поднимающиеся амфитеатром и прорезанные тремя проходами, идущими от сцены веером.
8 Gurfinkel N. ékhov. Paris. Seghers, collection Théâtre de tous les temps. N. 4. 1966. См. подробнее на с. 56 наст. кн.
9 — "Силекс". № 16. 1980. P. 82. Половина этого чеховского номера журнала "Силекс" посвящена театру, в особенности — "Вишневому саду", поставленному в Гренобле, в Альпийском Национальном Драматическом Центре в 1982 г.
1* Тюрлюр — персонаж пьесы Поля Клоделя "Черствый хлеб" (1918) ().
2* — персонаж комедии Лабиша "Путешествие господина Перришона", нарицательное имя для буржуа (примеч. перев.).